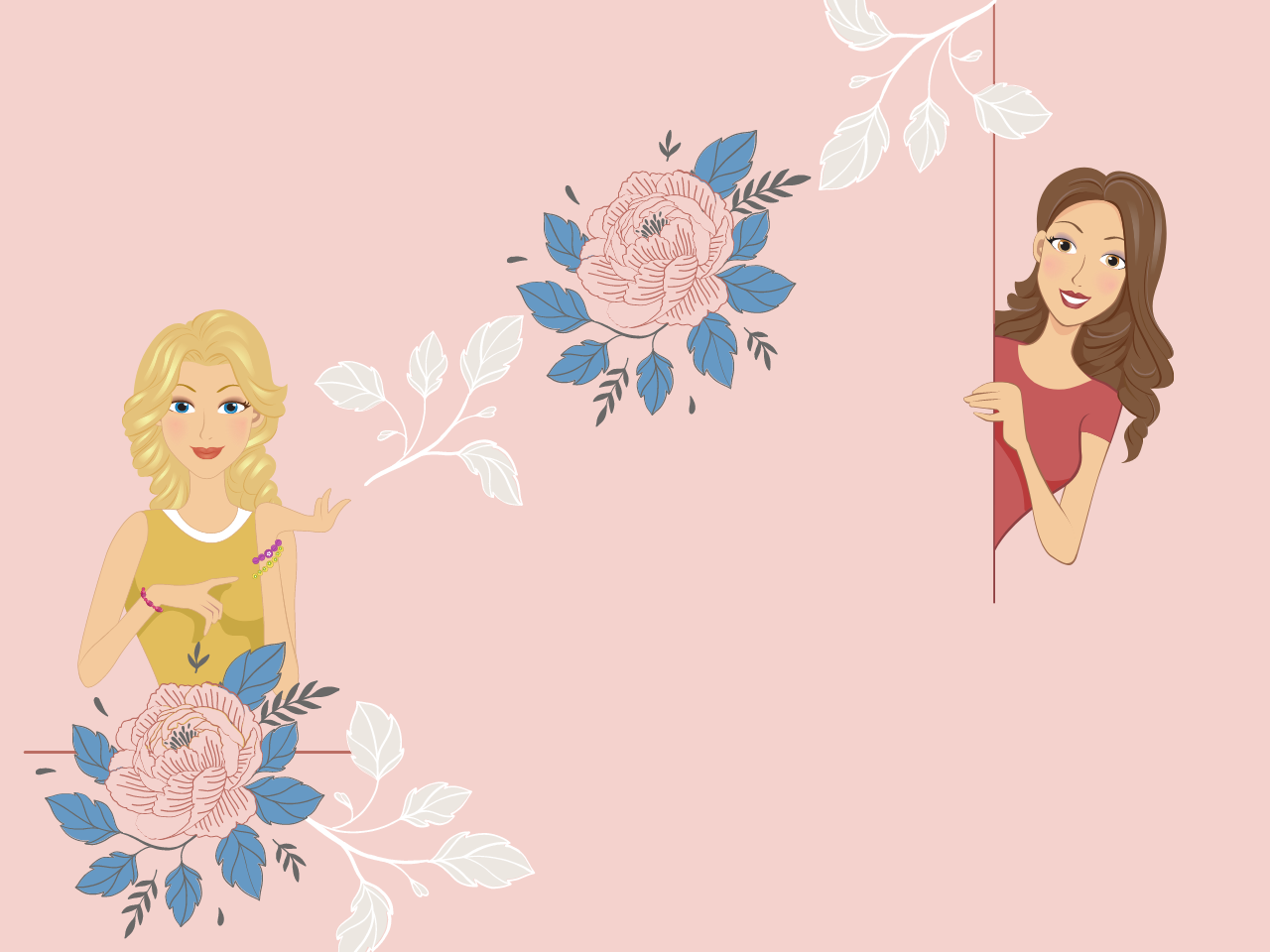
О двадцатом произведении
говорят
Юлия Малыгина и Елена Наильевна.
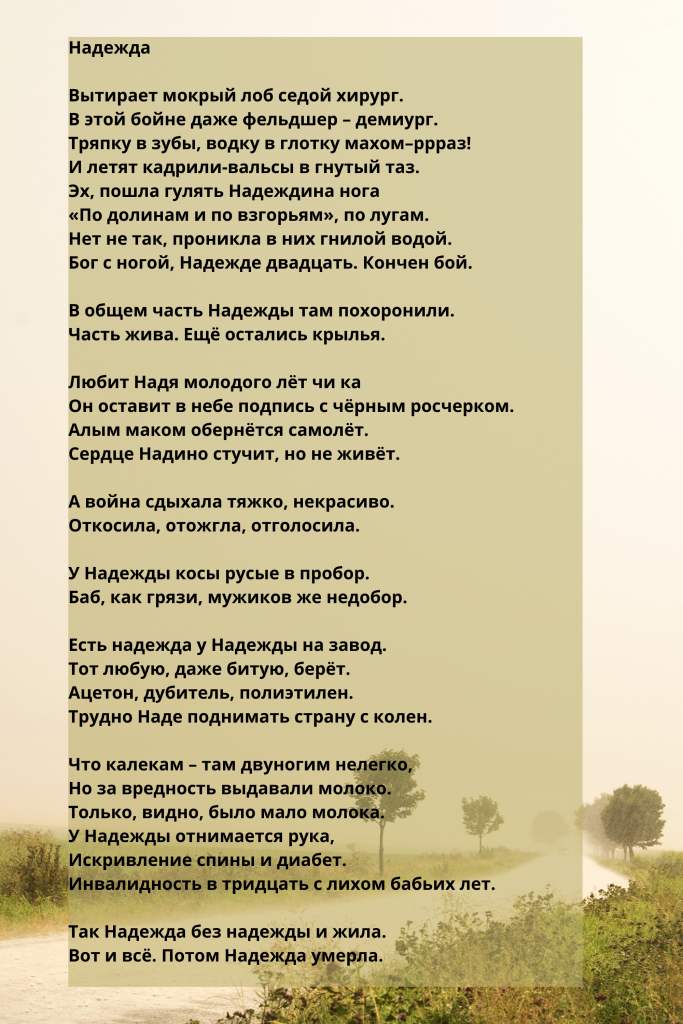
Ю.М.:
Лена, предварю своё замечание предысторией:
под стихотворением 247 разгорелась дискуссия, в ходе которой прозвучали какие-то уничижительные ноты относительно слова «котёнок», де, это жалостливость.
Мне сразу вспомнились стансы Седаковой «На смерть котёнка», и тут же возникла идея спонтанного «конкурса», — кто найдёт стихи, с которыми стансы находятся в диалоге, тот и вправе попросить поговорить о любом стихотворении.
Автор 266 вступил(а) в игру и попросила поговорить о стихотворении 20.
Лена, спасибо тебе за согласие поговорить со мной)

Е.Н.:
Спасибо-то спасибо, но, боюсь, выбранный текст попал как кур в ощип, так как моим главным принципом является не хвалить плохие стихи, не понижать статус сообщества, в котором я нахожусь.
И пока я вообще что-то говорю о стихах, я буду поддерживать хорошую поэзию, а для этого я должна иметь более-менее чёткое представление о плохой.
Понятно, что существует несколько уровней качества произведений, и что чем выше уровень, тем спорнее и спорнее критерии оценки, тем размытее границы между хорошим и не очень, но, к моему сожалению, здесь не тот случай, когда автор даёт почувствовать растерянность в попытках упорядочить впечатления и ощущения от стиха, даёт повод к мало-мальскому размышлению или эмоциональному отклику.
Могу лишь заметить, что если ты зарифмовываешь публицистику, не умея превратить её в поэзию, оживить, вдохнуть в неё дух, ты тем самым запрашиваешь для себя читателей определённого уровня, коим я не являюсь, но их очень много и без меня.
Мне не доставляет удовольствия находить женские журналы, тик-токи и яндекс-дзены на поэтическом конкурсе, я наивно и старомодно полагаю, что Богу — Богово, Кесарю — Кесарево.
Поэтому я не уверена, нужно ли выискивать в плохом тексте молекулы хорошего, а плохо там всё.
Это один из образцов, как не надо писать стихи (если хочешь чему-то научиться).
А ты что скажешь, Юля?

Ю.М.:
Лена, а зачем научиться писать хорошо, т.е. скорее нормативно, чем как-то просто хорошо, ведь никакого просто хорошо не существует.
Давай попробуем пойти со стороны понимания: мы понимаем этот текст? О чём он, если говорить «о чём текст»?

Е.Н.:
Согласна, есть разные целеполагания, и чужие не обязаны походить на мои, но я думаю, что чем субъективнее подход к оценке стихов, тем он дальше уйдёт от скучности и банальности, поэтому я за субъективность.)
Ты предлагаешь говорить о понимании? Ну хорошо. Да, я\мы понимаем этот текст, ведь он написан по-русски, очень внятно (казалось бы, всё как я люблю), но во-первых, абсолютно прямолинейно в плохом смысле этого слова, во-вторых, не имея и намёка на многослойность, на глубину или высоту, то есть поэтического тут нет ничего — просто слова в столбик.
О чём этот текст? О чужом горе и тяжёлой судьбе, но написано это, будто бы о пейзаже за окном (хотя сравнение так себе, ведь поэт и белую берёзу под моим окном превратит в поэзию).
Вот удивительно — написать целый текст о том, что должно вызывать море эмоций и главная из них — бесконечное сочувствие, — и не суметь вызвать ни одной.
Хотя один раз, на гуляющей Надеждиной ноге, всё же что-то похожее на тошноту подкатило, да.

Ю.М.:
Лена, а мне как раз и понравилась эта подкатывающая тошнота, которая всегда предваряет опрощение перед жёсткой скруткой.
Это же цинично звучит:
В общем часть Надежды там похоронили. Часть жива. Ещё остались крылья.
Не могу отделаться от ощущения, что хоронили ногу женщины, оставшейся живой, оставшейся калекой, прям мороз по коже и — да, тошнота.
Я понимаю, что написано (скорее всего) проникновенно и то, что я вольна вчитывать — моё и только моё восприятие, но я вижу только то, что могу видеть. Например, вот дети, для которых революция — это ещё пустой звук, — разучивают партизанскую песню времён Гражданской войны (надо сказать, что пели мы её отчаянно, совершенно не понимая в третьем-то классе), отчаянно-весело; и отнестись к этому оценочно я могу только сейчас и будет это сложное чувство.
Так вот, читая произведение, я неизменно вспоминаю лубок, как способ проживания ужаса, способ примирения с действительностью. Но ведь (я уверена) для тех людей, которым произведение понравилось, этот текст не звучит ни прянично, ни лубочно, потому что: ну что же тут лубочного, описаны трагедии, даже не так, — перечислены трагедии двадцатого века, перечислены с помощью отношения Надежды с культурными символами.
Но, то ли в силу возраста, то ли в силу воспитания, не могу принять такой уровень обобщения, когда так просто сводятся перипетии судьбы некоторой Надежды как частного человека к потрясениям целого народа. Но текст пишется изначально со знанием, что необходимо вписать трагедии в частную жизнь, а мы ведь привыкли, что частная жизнь так описана, что получается, будто описана общая жизнь, описана универсальность жизни в некоторых обстоятельствах.
В тексте «надежда» в значении «душевное состояние» затмило все остальные значения, и оно начало спорить с переносным значением «тот, от кого чего-то ждут», и если прочесть имя с учётом значения «тот, от которого чего-то ждут», то получится, что — вот, ждали-ждали, а она совершала-совершала подвиги, а потом умерла, — и в этом прочтении так же можно найти некоторую любопытность.
Лена, вот для тебя Надежда — это кто? (местная, из текста, конечно, а не вообще)

Е.Н.:
Надежда — это несчастная героиня, которой не повезло попасть в глупый стих.
По поводу цинизма — его здесь нет. Цинизм в поэзии — это иногда такое красивое в некотором смысле проявление презрения к ценностям общества, что само по себе способно дать заиграть яркими красками даже простому внешне стиху.
Здесь этого нет, а есть, я бы сказала, попытка давить на чувства читателя, связанные как раз с этими ценностями общества, но попытка совсем неумелая, поэтому вся эта бесконечная спекуляция не вызывает ничего, кроме скуки и отвращения.

Ю.М.:
Я не склонна, если честно, относиться к цинизму как к эстетическому (про)явлению, если он не постулируется, не манифестируется.
Думаю, он здесь неосознан и живёт только в моём восприятии, для меня это звучит слишком жёстко, слишком обобщённо (я всё про «В общем часть Надежды там похоронили. / Часть жива. Ещё остались крылья.»)
Но это же в принципе определённый тренд, то трупы из вагонов летали в прошлом сезоне, то дед сломался в сезоне этом, — не кажется ли тебе, что расчеловечивание — в принципе тренд, который выступает заданием? И тогда меня больше беспокоит его неосознанность, с одной стороны, — многие — «снежинки», ранимые и трепетные, с другой, — многие готовы не оценивать такие проявления как нечто неправильное, антигуманистичное.
Я примерно представляю, как ты к этому относишься, атрибутируя это неумелости, но что если дело не в умелости/неумелости, а дело именно что в соответствии тренду? Что если это один из маркеров равнодушия к человеку, выглядящий как равнодушие к культуре, и направленный интерес к социальным отношениям как представление о человеке, как социализированном (или несоциализированном человеке), в пику прежнему представлению о человеке, как о культурном/некультурном человеке. Может именно поэтому новое варварство и не осознаётся как новое варварство, потому что важнее — социальное, вместе с произведениями, готовыми с этим социальным взаимодействовать. Но само произведение, всё же, выглядит антропоцентричным, всё сводится к жизни, часто — бытовой, и в этом случае — бытовой, бытовой жизни частного человека.
Что скажешь, Лена, о социализации? Может этот текст — способ социализации?

Е.Н.:
\\не кажется ли тебе, что расчеловечивание — в принципе тренд, который выступает заданием?\\
Юля, вот что я думаю на этот счёт. Для поэзии почти не существует слов, которые нельзя употреблять, поэзия суть полёт и свобода.
А значит всё дело в том, КАК употребить то или иное слово, в каком контексте, с каким общем уровнем мастерства.
Вот и расчеловечивание окажется там, где нет поэзии. А где она есть, расчеловечивай сколько душеньке угодно, если это пойдёт в дело.
И если смотреть с этой точки зрения, то нет никакого задания, и без разницы, какие тренды — если это поэзия, ей можно почти всё и внутри неё работает почти всё. Даже если это будет спорно и не очень понятно; даже если это будет вызывать разнополярные мнения и сомнения внутри одного и того же, — это не так важно, главное — будет предмет сосредоточения умственного и эмоционального труда.
Иными словами, о маркерах равнодушия и чего-то там ещё можно говорить, начиная с определённого уровня качества произведения.
\\Что скажешь, Лена, о социализации? Может этот текст — способ социализации?\\
Может быть, для автора и способ социализации, не могу знать, Юля.
В рамках конкурсного нахождения меня больше волнует, что стихотворение даёт читателю. Я бы сместила свой фокус с автора и его социализации на стихотворение и его читателя.
И тут я снова возвращаюсь к вопросу целеполагания. Поэзия как бы спрашивает автора: «Чего тебе надобно, старче?»
И в зависимости от ответа на этот вопрос предоставляет возможности…

Ю.М.:
А если она у него ничего не спрашивает? Что если это автор теребит её за мокрый и грязный подол и тычется мокрым лицом в пустоту, надеясь, что уж в этот-то раз он не проиграет.
Но так мы зайдём на новый круг нашего вечного спора с тобой, что важнее: автор или текст.
Спасибо, что помогла мне в доведении до ума этой сумасбродной авантюры внезапного движения души.
